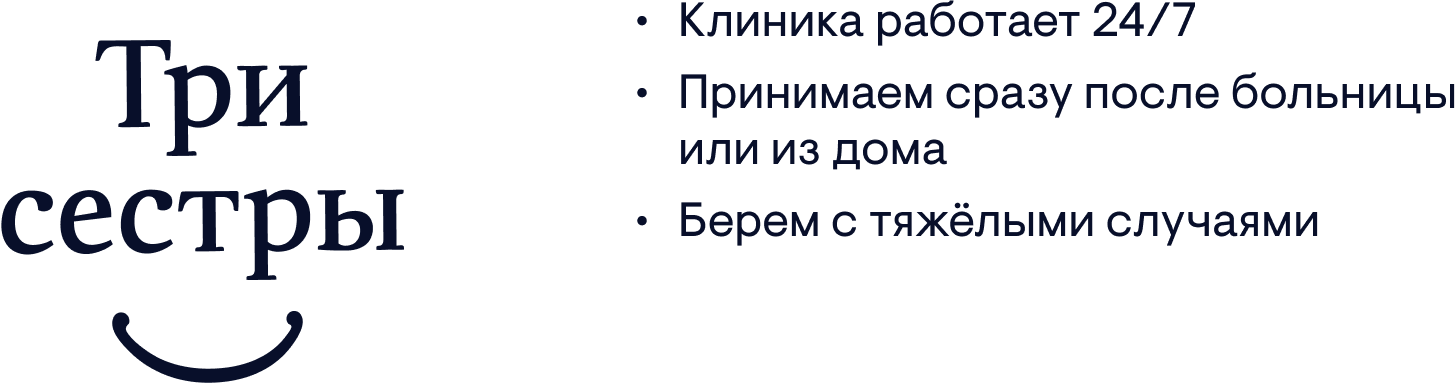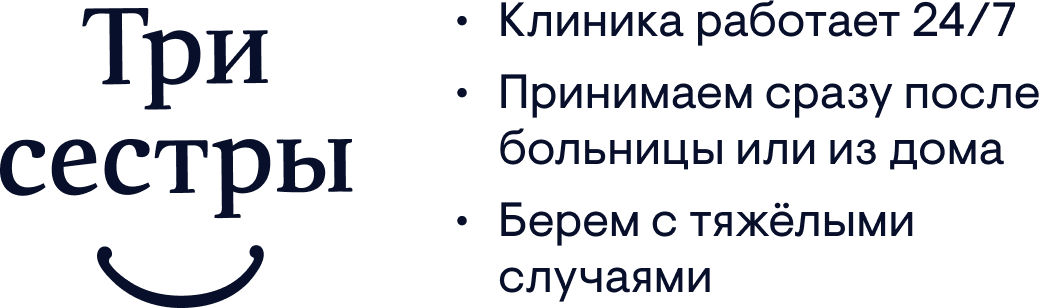Лев Брылёв: «Если врач не знает, как лечить больного, это тоже имеет отношение к этике»
Невролог, заведующий отделением Городской клинической больницы им. В. М. Буянова, медицинский директор Благотворительного фонда «Живи сейчас» об этических вопросах, которые приходится решать каждый день

Насколько вопросы медицинской этики актуальны для сегодняшнего медицинского сообщества?
Если говорить о том, возникают ли этические вопросы в диалогах врачей, — да, постоянно. В практике мы каждый день решаем вопросы, как сообщить и сообщать ли вообще пациенту тяжелый диагноз, продолжать ли искусственную вентиляцию легких, если у человека нет никаких шансов на выживание, а в то же время есть другой пациент с высокими шансами, которому аппарата вентиляции не хватило. Этих вопросов очень много. Другое дело, что об этом не говорится вслух, публично, как о действительно актуальной проблеме, которую надо решать.
В чем вы видите эту проблему?
Прежде всего, проблема в том, что ее нужно научиться замечать. Когда-то нам сказали, что правильно, и мы относимся к этому как к догме. Например, мы реанимируем всех умирающих больных. Вопрос реанимации или отказа от реанимации в моей практике стоит очень серьезно, поскольку мы наблюдаем пациентов, которые постепенно угасают. В конце концов у многих из них встает вопрос: вызывать ли скорую или не вызывать, продолжать ли искусственно жить за счет аппарата вентиляции или не продолжать? Для большинства людей в данной ситуации существует только один ответ: человек умирает, его надо спасать, и не нужно спрашивать, чего он хочет. Здесь как раз наша задача — объяснить семье, что есть этические принципы, которые говорят о том, что хорошо бы прислушаться к самому человеку.
Как работает в данной ситуации закон?
Вкратце — закон говорит, что если родственники пожалуются на то, что вы не реанимируете человека, и подадут на вас в суд, то вы с большой долей вероятности сядете в тюрьму. Должно быть такое стечение обстоятельств, что пациент умрет и они подадут в суд. Законом это трактуется как неоказание помощи. Но если он умрет, а они не подадут в суд, то ничего не будет.
Эта серая зона в законе не позволяет человеку по собственной воле отказаться от того же аппарата искусственной вентиляции легких. Даже если он может сам подписать заявление, смысл которого: «Я больше не хочу, чтобы у меня эта трубка торчала. Отстаньте от меня все». С большой вероятностью отключение аппарата врачом в любом случае будет расцениваться как убийство. У нас был пациент, врач, которого подключили к ИВЛ. В конце концов он дал понять, что хочет уйти из жизни. Конечно, он знал, что отключить его не могут, и поэтому он отказался от еды и от антибиотиков. Умер в жутких мучениях с абсцедирующей пневмонией. Когда ты такое видишь и в этом принимаешь участие, ты начинаешь многое переоценивать. Вот твои действия — ты принял решение интубировать (подключать к ИВЛ. — Примеч. ред.), — и вот, чем это оборачивается через три года. И ты не готов с этим жить дальше.
Можно ли расценивать отключение от аппарата как эвтаназию?
Эвтаназия — это искусственное приближение смерти. Прекращение поддерживающего жизнь лечения ни в одной стране мира не считается эвтаназией и, по сути, ею не является. Если человек умирает от своего заболевания, а ты просто приостанавливаешь то лечение, которое его держало на этом свете, — это другое. Во всех странах мира существуют протоколы, согласно которым, если пациент отказывается от такого лечения, его прекращают. Но — к этическому вопросу креп-ко привязан вопрос медицинский — согласно протоколу, это отключение должно происходить без мучений, без боли, потому что, если просто отключить, мучения будут жуткими. У нас такого протокола нет? Нет, в том числе потому, что не решены вопросы с обезболиванием. Вот приезжает пациент, у него одышка, частота дыхания — 40, то есть он просто задыхается. Это пациент, который давно наблюдается у нас; вот его карта, мы знаем, что он абсолютно точно не хочет ИВЛ, всегда от него отказывался. Когда он в таком состоянии, конечно, он говорит: «Сделайте все что угодно. Я не могу дышать. Спасите меня!» В этой ситуации мы, уважая его волю и его решение, даем ему морфин, который уменьшает одышку. Если бы мы следовали неким установившимся правилам и не учитывали его волю, мы должны были бы его заинтубировать, он еще месяц пролежал бы в реанимации и, скорее всего, там бы и умер. Мы даем морфин, он выписывается из реанимации и в относительно приличном состоянии проводит еще несколько месяцев дома, используя лекарство для контроля симптомов.
Почему я привожу этот пример? Потому что это единичный случай. Морфин при одышке у нас нигде не предоставляется, только при боли. Если мы говорим, что да, нужно уважать решение пациента об отказе от искусственной вентиляции легких, тогда встает вопрос: а как нам бороться с теми симптомами, которые возникают при нарастающей одышке? Ты не можешь просто оставить больного с этим решением. Одышка — такой же тяжелый симптом, как и боль. Одышкой страдают самые разные больные: и с БАС, и с хронической обструктивной болезнью легких, и пациенты с самой разной онкологией. Мы поняли, что ответом является использование морфина. Есть такая мантра «морфин может угнетать дыхание». И это действительно так — в больших дозах и при определенных условиях. Но в нужных дозах он не приближает смерть, а убирает симптом. Как легитимировать использование морфина? В большинстве случаев решение о том, что ты хочешь обеспечить человеку выбор, а не жить потом с мыс-лью, что этого не сделал, ты принимаешь для себя сам. Я готов пойти на определенные риски для себя. Безусловно, должна идти параллельная работа по созданию всяческих стандартов, но суть в том, что никто за нас эту систему не сделает. Такая работа идет — мы в службе БАС передаем свой опыт государственной системе паллиативной помощи, и нас слышат.
Расскажите подробнее о службе помощи больным БАС.
Это благотворительный проект, который начался, когда я учился в Институте неврологии. Именно в работе с больными БАС этические вопросы встают острее, потому что мы имеем дело с неизлечимой болезнью. Но за время заболевания пациента получается многое обсудить с семьей и с командой. Например, сообщать ли пациенту диагноз. В руководстве по неврологии написано черным по белому: поскольку излечить пациента с БАС мы не можем, диагноз ему не сообщать. Но, когда ты все же начинаешь говорить о заболевании, ты понимаешь, что для человека это важно. «Мне столько лет втирали какую-то ерунду. Мне тяжело от того, что вы мне сказали, но спасибо, потому что теперь я знаю, с чем имею дело».
Где проходят границы того, что регламентируется этикой?
Этика регламентирует множество сторон. Если врач не знает, как лечить больного, это тоже имеет отношение к этике, потому что ты должен не навредить. Моя бабушка (она сама врач) рассказывала, что в советские времена, когда она проходила лечение, ее все время спрашивали: «Можно вам зуб выдернет ординатор? Можно малую операцию у вас проведет интерн?» Она говорила: «Я всегда соглашалась. Им же надо на ком-то учиться». Но, как правило, пациенты об этом не узнают. Случались скандалы по поводу обследований, которые выполняются ординаторами под наркозом, например. Да, как врач я могу, в принципе, не спросить пациента. Но для начала надо хотя бы задаться этим вопросом: спрашивать или нет?
Вся сложность этических вопросов состоит в том, что нет единого рецепта и одни и те же поступки в применении к разным пациентам могут означать противоположное. У меня, например, был такой случай. Приходим с утра, дежурный врач говорит: «Я больную не спунктировал. У нее, похоже, менингит, но она отказалась от манипуляций». По сути, это соответствует этическим нормам. Если у тебя принцип «не делать ничего против воли больного» — ну окей. Но я спрашиваю: «Слушай, она умрет завтра у тебя — и как ты с этим жить-то будешь?» Тут абсолютно осознанно ты себе говоришь: «Я нарушаю эти этические принципы. Даже если она подписала отказ, я буду ее уговаривать, буду ее запугивать, но для меня важен в этой ситуации конечный результат. Я хочу, чтобы она выжила. Если она потом захочет совершить самоубийство — окей, но не здесь и не сейчас». И я иду к пациентке и сообщаю ей, что сейчас отправляю ее в реанимацию и пунктирую ее там. Она: «Ой, это так больно! Я не хочу! Я слышала, у людей отказывали ноги после этих уколов». — «Все будет нормально». И у нее действительно оказывается менингит.
Кто и каким образом, на ваш взгляд, должен контролировать соблюдение этических требований?
Должна существовать независимая медицинская общественная организация, которая имела бы реальное право отстранить врача от работы за неэтичное поведение. Нельзя рассчитывать на добросердечность и лучшие качества врача. Это никогда, нигде, ни в одной системе не работало. Нужно создать инструменты оценки patient experience. Необходимо разработать подробный этический кодекс и определенные регламенты, которые говорят о том, что если вы, например, задали вопрос, то врач вам должен ответить. Если он не ответил, он приходит на заседание этического комитета, где объясняет коллегам, к примеру: «Вы понимаете, я увидел в анализах нечто страшное, и я не мог прямо тогда сказать. У меня не было времени подумать, поэтому я отказался отвечать». То есть он аргументирует свой отказ. Эти четкие правила должны касаться работников всех сегментов медицинской сферы.
Трансфер на машине скорой
Мы советуем пациентам приезжать в клинику с медицинским трансфером. Так дорога не повлечет за собой осложнений. Мы можем организовать трансфер из Москвы: от вокзала, аэропорта или из дома до нашей клиники.
Приезжайте в гости
Вы можете приехать к нам в клинику на экскурсию. Мы покажем клинику и ответим на вопросы. Только сообщите нам о визите, пожалуйста, заранее
Задать вопросы о реабилитации
Мы перезвоним и расскажем о реабилитации всё, что важно в вашей ситуации.
Вы можете позвонить нам сами: